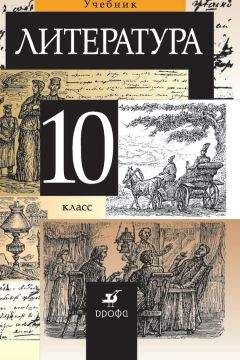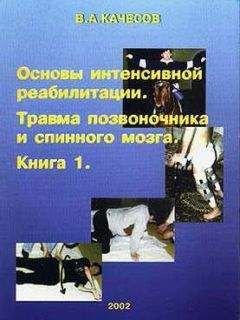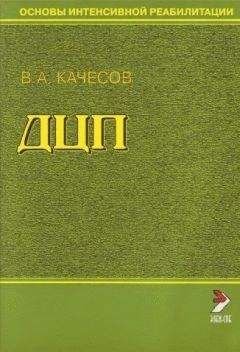В сознании писателя окончательно определился перелом. С. Т. Аксаков замечает: «…Он начал писать «Мертвые души» как любопытный и забавный анекдот… только впоследствии он узнал, говоря его словами, «на какие сильные и глубокие мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет», что… мало-помалу составилось это колоссальное здание, наполнившееся болезненными явлениями нашей общественной жизни… впоследствии почувствовал он необходимость исхода из этого страшного сборища человеческих уродов. Отсюда начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии… такого высокого настроения, которое уже несовместимо с телесным организмом человека…»
Отныне все последующие труды писателя подчинены реализации неосуществимой цели: Гоголь ощущает себя проповедником, он стремится научить людей жить по высоким нравственным законам. «Когда вся утопичность, которая была в Гоголе, когда он писал «Ревизора», получила жестокий удар от явного несовпадения художественной ценности созданий искусства (в данном случае «Ревизора») с ее воздействием на нравы, на моральное сознание общества, – то тогда Гоголь нашел в религиозном миропонимании иную базу для осмысления функции искусства», – подчеркивает В. Зеньковский, исследователь творчества писателя.
«Выбранные места из переписки с друзьями»
Сначала Гоголь ждал прямого и непосредственного результата от «Ревизора», затем – от «Мертвых душ», от тех рассказов и повестей, над которыми работал параллельно с созданием поэмы. Затем его надежды были связаны с «Выбранными местами из переписки с друзьями». В предисловии к этой книге он пишет: «Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна…» Писатель вновь касается тех вопросов и проблем, тех сторон русской жизни, которые затронуты в повестях, комедиях, поэме.
Стремление любого человека подчинить волю окружающих тому, что он сам считает абсолютным благом, неизбежно кончается крахом. Попытка создать произведение, которое покажет всем людям, как можно и должно жить, искреннейшая уверенность, что только его решение верно, и невозможность сделать это именно благодаря беспощадной честности таланта – причина трагедии. Гоголь поставил перед собой задачу, непосильную для человека. Он заранее обрек себя на поражение.
Много споров возникало и возникает вокруг «Выбранных мест из переписки с друзьями». Разочаровавшись в возможностях писателя, Гоголь решается обратиться к людям со словом проповедника. Он говорил: «…На некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа вообще». Результатом появления произведения Гоголя станет полемика писателя с критиком В. Г. Белинским, в которую были вовлечены самые широкие литературные круги. Критик утверждал: «…Горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется на чужой путь!»
Гоголь пишет в «Авторской исповеди», созданной в мае – июне 1847 года, что решает бросить писательство. Подавленный непониманием, он в январе 1848 года предпринимает паломничество. Жуковскому так объясняет свое решение: «Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное».
Работа над вторым томом «Мертвых душ». Последние годы жизни
Вернувшись в Россию, Гоголь продолжает работу над вторым томом «Мертвых душ». Для других путешественников возвращение на родину было и возвращением в родной дом. Для Гоголя это было лишь изменением места его скитаний. Как всегда, на него благотворно действовала дорога: «Дорога – мое единственное лекарство»; «…дорога по нашим открытым степям тотчас сделала надо мною чудо». Близкая ему и сочувствующая его духовным поискам калужская губернаторша А. О. Смирнова замечала: «Ему всегда надо пригреться где-нибудь, тогда он и здоров». И он «пригревался» у А. О. Смирновой, у В. А. Жуковского, у Виельгорских в Ницце, у С. П. Апраксиной в Неаполе, у М. П. Погодина и графа А. П. Толстого в Москве. Своего дома у него никогда не было. Но он не любил и не умел быть один: в Петербурге жил через стенку с А. С. Данилевским, И. Г. Пащенко, в Риме соседствовал с П. В. Анненковым, H. М. Языковым, В. А. Пановым.
Попытка преодолеть одиночество была им осуществлена лишь один раз. Это произошло в семье графа Виельгорского, богатого и знатного царедворца. Его дом был, как пишут современники, средоточием столичной аристократической жизни. Сам граф был хорошим музыкантом, и Р. Шуман называл его гениальнейшим из дилетантов. Виельгорский был близок с Карамзиным, Жуковским, Пушкиным и Гоголем. В значительной степени благодаря ему «Ревизор» попал на сцену. Его сын Иосиф Михайлович умер в 1839 году в Риме на руках у Гоголя. С младшей дочерью, Анной Михайловной, и произошло то, что сам Гоголь, очевидно, считал «романом». Анна Михайловна (она же Анолина, Нози) жадно внимала поучениям писателя и была с ним в постоянной переписке. Но дружба умной и доброй девушки, как оказалось, не предполагала более близких отношений. Попытка Гоголя предложить свою руку и сердце осталась без ответа.
У Гоголя на протяжении всей жизни не было близких друзей. Замкнутый и недоверчивый, ироничный и насмешливый, он никому не доверял свои сокровенные мысли и чувства.
Постоянная жизнь бездомного странника, отсутствие сколько-нибудь действенной заботы окружающих, ухудшение здоровья, вместе с непомерностью творческих притязаний приближали трагическую развязку.
Обычно о «Гансе Кюхельгартене» вспоминают только как о неудачной пробе пера, но в поэме есть строки, в которых звучат мечты юноши, сохранившиеся до последнего дня жизни писателя.
…ужели
Мне здесь душою погибать?
И не узнать иной мне цели?
..................................
Себя обречь бесславью в жертву?
................................
Душой ли, к счастью не остывшей,
Волненья мира не испить?
И в нем прекрасного не встретить?
Существованья не отметить?
«Отмеченность» существования Гоголя очевидна, но судьба сатирика всегда горька.
Повести, впервые опубликованные в третьем томе собрания сочинений Н. В. Гоголя в 1842 году, и сейчас входят в один том и обычно называются петербургскими. Они «относятся к промежутку времени между 1835 и 1842 годами, непосредственно предваряя появление «Мертвых душ» (Н. Степанов). «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего» увидели свет в 1835 году в «Арабесках», «Нос» и «Коляска» – в 1836 году в «Современнике», «Шинель» впервые появилась в третьем томе сочинений писателя в 1842 году.
В этом цикле Петербург предстает и в величии Невского проспекта и в частной жизни людей. Зоркий глаз наблюдательного реалиста, фантастика и гротеск живут и убедительно сочетаются на страницах этих повестей. Соединение «фламандского сора» мельчайших подробностей с фантастическими событиями не только удивляет, оно заставляет задуматься о том, как сложна и противоречива жизнь города.
В повестях очевидна тема двоемирия, так резко звучавшая в произведениях романтиков. Однако эти произведения вполне реалистичны, хотя в них спокойно разгуливают и призрак умершего чиновника, и даже Нос майора Ковалева.
«Трудно схватить общее выражение Петербурга», – писал Гоголь в статье «Москва и Петербург». В этой статье он утверждал, что население столицы состоит из «совершенно отдельных обществ»: «аристократы, служащие, чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы – все составляют совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою». Вот как этот калейдоскоп изображен на страницах повести «Невский проспект»: «В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольский сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой – галстук, возбуждающий удивление, осмой – усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается…».
Однако в повести есть не только общий взгляд на столичную жизнь – в ней есть и свои герои. «Невский проспект», – писал В. Г. Белинский, – есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное бок о бок друг другу… Пискарев и Пирогов – какой контраст! О, какой смысл скрыт в этом контрасте! И какое действие производит этот контраст!»